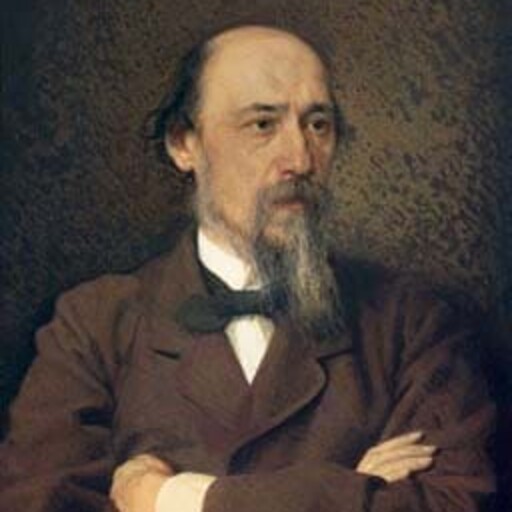…Через дым, разъедающий очи
Милых дам, убивающих ночи
За игрою в лото-домино,
Разглядеть что-нибудь мудрено.
Миновав этот омут кромешный,
Это тусклое царство теней,
Добрались мы походкой поспешной
До газетной….
Здесь воздух свежей;
Пол с ковром, с абажурами свечи,
Стол с газетами, с книгами шкап.
Неуместны здесь громкие речи,
А еще неприличнее храп,
Но сморит после наших обедов
Хоть какого чтеца, и притом
Прав доныне старик Грибоедов —
С русской книгой мы вечно уснем.
Мы не любим словесности русской
И доныне, предвидя досуг,
Запасаемся книгой французской.
Что же так?… Даже избранный круг
Увлекали талантом недавно
Граф Толстой, Фет и просто Толстой.
«Русский слог исправляется явно!» —
Замечают тузы меж собой.
Не без гордости русская пресса
Именует себя иногда
Путеводной звездою прогресса,
И недаром она так горда:
Говорят — о, Гомер и Овидий! —
До того расходилась печать,
Что явилась потребность субсидий.
Эк хватила куда! исполать!
Таксы нет на гражданские слезы,
Но и так они льются рекой.
Образцы изумительной прозы
Замечаются в прессе родной:
Тот добился успеха во многом
И удачно врагов обуздал,
Кто идею свободы с поджогом
С грабежом и убийством мешал;
Тот прославился другом народа
И мечтает, что пользу принес,
Кто на тему: вино и свобода
На народ напечатал донос.
Нам Катков предстоит великаном,
Мы Тургенева кушать зовем…
Почему же французским романам
Предпочтение мы отдаем?
Не избыток хорошего тона,
Не картин соблазнительный ряд,
Нас отсутствие «мрака и стона»
К ним влечет… Мудрецы говорят:
«Час досуга, за утренним чаем,
Для чего я тоской отравлю?
Наши немощи знаем мы, знаем,
Но я думать о них не люблю!..»
Эта песня давно уже слышится,
Но она не ведет ни к чему.
Коли нам так писалось и пишется, —
Значит, есть и причина тому!
Не заказано ветру свободному
Петь тоскливые песни в полях,
Не заказаны волку голодному
Заунывные стоны в лесах;
Спокон веку дождем разливаются
Над родной стороной небеса,
Гнутся, стонут, под бурей ломаются
Спокон веку родные леса,
Спокон веку работа народная
Под унылую песню кипит,
Вторит ей наша муза свободная,
Вторит ей — или честно молчит.
Как бы ни было, в комнате этой
Праздно кипы журналов лежат,
Пусто! разве, прикрывшись газетой,
Два-три члена солидные спят.
(Как не скажешь: москвич идеальней,
Там газетная вечно полна,
Рядом с ней, нареченная «вральней»,
Есть там мрачная зала одна —
Если ты не московского мненья,
Не входи туда — будешь побит!)
В Петербурге любители чтенья
Пробегают один «Инвалид»;
В дни, когда высочайшим приказом
Назначается много наград,
Десять рук к нему тянется разом,
Да порой наш журнальный собрат
Дерзновенную штуку отколет,
Тронет личность, известную нам,
О! тогда целый клуб соизволит
Прикоснуться к презренным листам.
Шепот, говор. Приводится в ясность —
Кто затронут, метка ли статья?
И суровые толки про гласность
Начинаются. Слыхивал я
Здесь такие сужденья и споры…
Поневоле поникнешь лицом
И потупишь смущенные взоры…
Не в суждениях дело, а в том,
Что судила такая особа…
Впрочем, я ей обязан до гроба!
Раз послушав такого туза,
Не забыть до скончания века.
В мановении брови — гроза!
В полуслове — судьба человека!
Согласишься, почтителен, тих,
Постоишь, удалишься украдкой
И начнешь сатирический стих
В комплимент перелаживать сладкий…
Да! Но все-таки грустен напев
Наших песен, нельзя не сознаться.
Переделать его не сумев,
Мы решились при нем оставаться.
Примиритесь же с Музой моей!
Я не знаю другого напева.
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей…
С давних пор только два человека
Постоянно в газетной сидят:
Одному уж три четверти века,
Но он крепок и силен на взгляд.
Про него бесконечны рассказы:
Жаден, скуп, ненавидит детей.
Здесь он к старосте пишет приказы,
Чтобы дома не тратить свечей.
Говорят, одному человеку
Удалось из-за плеч старика
Прочитать, что он пишет: «В аптеку,
Чтоб спасти бедняка мужика,
Посылал ты — нелепое барство! —
Впредь расходов таких не иметь!
Деньги с миру взыскать… а лекарство
Для крестьянина лучшее — плеть…»
Анекдот этот в клубе я слышал
(Это было лет десять тому).
Из полка он за шулерство вышел,
Мать родную упрятал в тюрьму.
Про его воровские таланты
Тоже ходит таинственный слух;
У супруги его бриллианты
Родовые пропали — двух слуг
Присудили тогда и сослали;
А потом — раз старик оплошал —
У него эти камни видали:
Сам же он у жены их украл!
Ненавидят его, но для виста
Он всегда партенеров найдет:
«Что ж? ведь в клубе играет он чисто!»
Наша логика дальше нейдет…
А другой? Среди праздных местечек,
Под огромным газетным листом,
Видишь, тощий сидит человечек
С озабоченным, бледным лицом,
Весь исполнен тревогою страстной,
По движеньям похож на лису,
Стар и глух; и в руках его красный
Карандаш и очки на носу.
В оны годы служил он в цензуре
И доныне привычку сберег
Всё, что прежде черкал в корректуре,
Отмечать: выправляет он слог,
С мысли автора краски стирает.
Вот он тихо промолвил: «Шалишь!»
Глаз его под очками играет,
Как у кошки, заметившей мышь;
Карандаш за привычное дело
Принялся… «А позвольте узнать
(Он болтун — говорите с ним смело),
Что изволили вы отыскать?»
— «Ужасаюсь, читая журналы!
Где я? Где? Цепенеет мой ум!
Что ни строчка — скандалы, скандалы!
Вот взгляните — мой собственный кум
Обличен! Моралист-проповедник,
Цыц!.. Умолкни, журнальная тварь!..
Он действительный статский советник,
Этот чин даровал ему царь!
Мало им, что они Маколея
И Гизота в печать провели,
Кровопийцу Прудона, злодея
Тьера выше небес вознесли,
К государственной росписи смеют
Прикасаться нечистой рукой!
Будет время — пожнут, что посеют!
(Старец грозно качнул головой.)
А свобода, а земство, а гласность!
(Крикнул он и очки уронил.)
Вот где бедствие! Вот где опасность
Государству… Не так я служил!
О чинах, о свободе, о взятках
Я словечка в печать не пускал.
К сожаленью, при новых порядках
Председатель отставку мне дал;
На начальство роптать не дерзаю
(Не умею — и этим горжусь),
Но убей меня, если я знаю,
Отчего я теперь не гожусь?
Служба всю мою жизнь поглощала,
Иногда до того я вникал,
Что во сне благодать осеняла,
И, вскочив, — я черкал и черкал!
К сочинению ключ понемногу,
К тайной цели его подберешь,
Сходишь в церковь, помолишься богу
И опять троекратно прочтешь:
Взвешен, пойман на каждом словечке,
Сочинитель дрожал предо мной, —
Повертится, как муха на свечке,
И уйдет тихомолком домой.
Рад-радехонек, если тетрадку
Я, похерив, ему возвращу,
А то, если б пустить по порядку…
Но всего говорить не хочу!
Занимаясь семь лет этим дельцем,
Не напрасно я брал свой оклад
(Тут сравнил он себя с земледельцем,
Рвущим сорные травы из гряд).
Например, Вальтер Скотт или Купер —
Их на веру иной пропускал,
Но и в них открывал я канупер!
(Так он вредную мысль называл.)
Но зато, если дельны и строги
Мысли, — кто их в печать проводил?
Я вам мысль, что „большие налоги
Любит русский народ“, пропустил
Я статью отстоял в комитете,
Что реформы раненько вводить,
Что крестьяне — опасные дети,
Что их грамоте рано учить!
Кто, чтоб нам микроскопы купили,
С представленьем к министру вошел?
А то раз цензора пропустили,
Вместо северный, скверный орел!
Только буква… Шутите вы буквой!
Автор прав, чего цензор смотрел?»
Освежившись холодною клюквой,
Он прибавил: «А что я терпел!
Не один оскорбленный писатель
Письма бранные мне посылал
И грозился… (Да шутишь, приятель!
Меры я надлежащие брал.)
Мне мерещились авторов тени,
Третьей ночью еще Фейербах
Мне приснился — был рот его в пене,
Он держал свою шляпу в зубах,
А в руке суковатую палку…
Мне одна романистка чуть-чуть
В маскараде… но бабу-нахалку
Удержали… да, труден наш путь!
Ни родства, ни знакомства, ни дружбы
Совесть цензора знать не должна,
Долг, во-первых, — обязанность службы!
Во-вторых, сударь: дети, жена!
И притом я себя так прославил,
Что свихнись я — другой бы навряд
Место новое мне предоставил,
Зависть общий порок, говорят!»
Тут взглянул мне в лицо старичина:
Ужас, что ли, на нем он прочел,
Я не знаю, какая причина,
Только речь он помягче повел:
«Так храня целомудрие прессы,
Не всегда был, однако, я строг.
Если б знали вы, как интересы
Я писателей бедных берег!
Да! меня не коснулись упреки,
Что я платы за труд их лишал.
Оставлял я страницы и строки,
Только вредную мысль исключал.
Если ты написал: „Равнодушно
Губернатора встретил народ“,
Исключу я три буквы: „ра-душно“
Выйдет… что же? три буквы не счет!
Если скажешь: „В дворянских именьях
Нищета ежегодно растет“, —
„Речь идет о сардинских владеньях“ —
Поясню, — и статейка пройдет!
Точно так: если страстную Лизу
Соблазнит русокудрый Иван,
Переносится действие в Пизу —
И спасен многотомный роман!
Незаметные эти поправки
Так изменят и мысли, и слог,
Что потом не подточишь булавки!
Да, я авторов много берег!
Сам я в бедности тяжкой родился,
Сам имею детей, я не зверь!
Дети! дети! (старик омрачился).
Воздух, что ли, такой уж теперь —
Утешения в собственном сыне
Не имею… Кто б мог ожидать?
Никакого почтенья к святыне!
Спорю, спорю! не раз и ругать
Принимался, а втайне-то плачешь.
Я однажды ему пригрозил:
„Что ты бесишься? Что ты чудачишь?
В нигилисты ты, что ли, вступил?“
— „Нигилист — это глупое слово, —
Говорит, — но когда ты под ним
Разумел человека прямого,
Кто не любит живиться чужим,
Кто работает, истины ищет.
Не без пользы старается жить,
Прямо в нос негодяя освищет,
А при случае рад и побить —
Так пожалуй — зови нигилистом,
Отчего и не так!“ Каково?
Что прикажете с этим артистом?
Я в студенты хотел бы его,
Чтобы чин получил… но едва ли…
„Что чины? — говорит, — ерунда!
Там таких дураков насажали,
Что их слушать не стоит труда,
Там я даром убью только время, —
И прибавил еще сгоряча
(Каково современное племя!): —
Там мне скажут: „Ты сын палача!““
Тут невольно я голос возвысил,
„Стой, глупец! — я ему закричал, —
Я на службе себя не унизил,
Добросовестно долг исполнял!“
— „Добросовестность милое слово, —
Возразил он, — но с нею подчас…“
— „Что, мой друг? говори — это ново!“
Сильный спор завязался у нас;
Всю нелепость свою понемногу
Обнаружил он ясно тогда;
Между прочим, сказал: „Слава богу,
Что чиновник у нас не всегда
Добросовестен…“ — Вот как!.. За что же
Возрождается в сыне моем,
Что всю жизнь истреблял я?.. о боже!..»
Старец скорбно поникнул челом.
«Хорошо ли, служа, корректуры
Вы скрывали от ваших детей? —
Я с участьем сказал. — Без цензуры
Начитался он, видно, статей?»
— «И! как можно!..»
Тут нас прервали.
Старец снова газету берет…