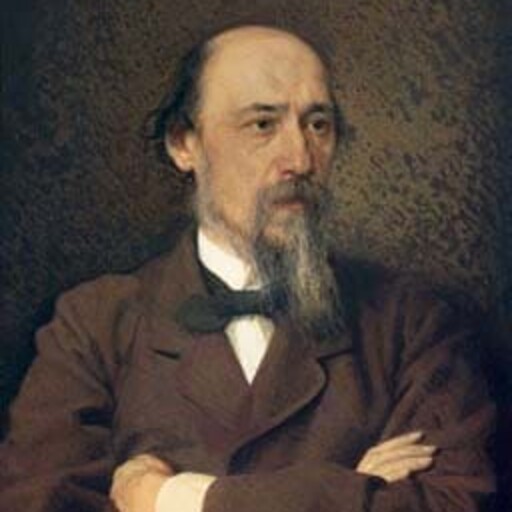Водевильные сцены из журнальной жизни
Кабинет, опрятно и довольно роскошно убранный; по стенам развешано множество портретов писателей и артистов: на книжных шкафах бюсты Вольтера, Руссо, Пушкина, Крылова, Шиллера и Гете. У стены письменный стол, уставленный разными красивыми безделками, в систематическом порядке, и покрытый бумагами и книгами. Семячко, журналист, сидит у стола.
Семячко. Пропасть дела. Мало того что пиши, да пиши еще наскоро, на заказ, пиши под мерку наборщика: именно столько, сколько надо в нумер. А тут, глядишь, придется что-нибудь выбросить, и опять добавляй; и всё в меру и в строку. Чуть свет бесчеловечные наборщики пришлют тебе несколько форм корректуры… сиди, читай да думай о том, что написать к завтрашнему нумеру. А тут принесут газеты; смотришь, какой-нибудь благоприятель уж и позаботится поздравить тебя с добрым утром. Сердиться на него не стоит, а всё досадно. Чуть успокоишься, сядешь за перо, — звонят в колокольчик… И ворвется какой-нибудь посетитель; друг он, не друг, а так, посетитель. Потом другой, третий… толкуй с ними… Очень приятно!..
Чуть проснешься, нет отбоя
От задорливых писак,
Не дают тебе покоя,
Жгут сигары и табак,
Предлагают вам услуги,
Повестцу вам принесут
И, как будто на досуге,
С жаром вам ее прочтут.
Тот пучок стихотворений
Вам изволит предлагать;
Сам не знает ударений,
А ударился писать.
Тот свою дрянную сказку
Подает в десятый раз:
«Я поправил тут завязку,
Стал короче мой рассказ».
Тот с безграмотной статьею
Силой ломится к вам в дверь:
«Извините — беспокою,
Но последний раз теперь».
Тот придет с пиесой дикой:
«Прочитать я вас прошу,
Человек-де вы великой,
Вашим мненьем дорожу»,
И начнется искушенье…
И пойдет тут кутерьма.
Просто сущее мученье,
Ходишь точно без ума.
Тут клянешь литературу,
Проклинаешь сам себя;
В лапах держишь корректуру,
А держать ее нельзя.
А тут, смотришь, — вдруг газеты
Новый нумер принесут,
В нем тебя сживают с света,
По карману больно бьют…
А тут, смотришь, — гневный фактор
Впопыхах к тебе бежит:
«Господин, дескать, редактор,
Типография стоит!»
Как-нибудь гостей проводишь,
Над статьей начнешь корпеть,
Что попало производишь,
Только б к сроку подоспеть!
Вдруг… о, страх! толпою гости,
Как враги, нахлынут вновь;
От досады ноют кости,
Приливает к сердцу кровь.
День проходит, день потерян…
Заглянуть беда вперед,
На другой день — будь уверен —
То же самое пойдет!
Что делать?.. Отказать совестно… назовут гордецом. Им очень хорошо известно, что журналист всегда дома… Притом думаешь, что и за делом; а на поверку выходит, что просто им дома соскучилось… Да и говорить с ними не о чем.
Как скучны эти господа!
Жить не дают совсем в покое.
Придут и сядут без стыда,
Болтают битый час пустое,
А ты тут думай: вот беда!
Я не один и нас не двое.
Хоть бы сегодня меня не потревожили… У меня так много дела. Надо прочитать вот эту корректуру да написать статью в фельетон, а то завтра нумер не выдет; а это беда, решительная беда… На исправный выход газет и книжек у нас очень, очень много смотрят. Давай хоть вздор, перепечатанный из старых книг, — всё хорошо; дай превосходнейшие вещи днем позже — скажут: дрянь. (Садится и читает корректуру. Входит человек и подает газету. Семячко берет и читает.) Так и есть… Опять ругательство. Задарин каждый день меня угощает, видно, я ему солоно пришелся. (Читает и вскакивает.) Нет, это уже ни на что не похоже. Он просто лично меня оскорбляет… (Успокаивается.) Впрочем, за что сердиться? От лжи, клеветы и низких намеков мое доброе имя не пострадает. Пойду вперед добросовестно — публика рассудит, какое мнение выше: продажное или неподкупное.
Слышен звонок.
Ну, кто-то идет…
Входит Оболтусов, с рукописью под мышкой.
Оболтусов. Мое почтение.
Семячко. Здравствуйте. (Ну, теперь от него не отвяжешься!)
Оболтусов. У меня есть до вас просьба, которая, без сомнения, будет вам очень, очень приятна. Вам известно, что, несмотря на цветущую мою молодость, я изучил уже Гомера, Софокла, Еврипида, всех древних и новых, могу читать на греческом, латинском, арабском и санскритском так же свободно, как и на русском. Я занимаюсь изучением российских древностей и разбором финских рунов, пишу стихи большею частию в греческом вкусе и китайском духе; наконец, что вы скажете, если я объявлю вам, что я иногда, уделяя время легкой словесности, писал повести. Долго мне не хотелось печатать их… знаете, после исторических исследований, возни с древними как-то казалось неловко… Однако теперь я решился… Не просто решился, а, изволите видеть… написал два билетика, — на одном: «печатать», на другом: «не печатать», положил в папенькину барашковую шапку… она такая глубокая… да и дал вынуть кузине… прекрасная девушка — лет в шестнадцать. Гляжу — вынулось: «печатать». Вот я принес мою повесть к вам: напечатать. Меня умоляли об ней другие журналы, но я уж решил, что вам.
Семячко. Благодарю. Оставьте ее, я просмотрю, и если…
Оболтусов. Угодно, я расскажу вам сюжет? Дело состоит в том…
Семячко. Нет, уж позвольте… Я сам прочту…
Оболтусов. Вот вам еще стихотворение «Комар» — в китайском вкусе. Дело состоит в том, что комар сел на руку одной молодой девушки и до того напился ее кровью, что не мог лететь. Девушка видела его во власти своей, но… такова сила добродетели… не послушалась чувства мщения: спокойно дождалась, когда комар собрался с силами, и когда он улетал, то сопровождала его благословениями, желанием «здравия» и всякого благоденствия. Умилительно-нравственная сцена, совершенно в роде Катса или Бильдердейка. Я тоже хочу приготовить томов сорок в этом роде. А вот вам еще статья о чухломских древностях…
Семячко. Подобная статья о древностях Чухломы была уже вами напечатана в другом журнале: она исполнена ошибок и противоречий.
Оболтусов. Помилуйте, стоит ли на это обращать внимание…
Семячко. Однако вы даже перепутали названия замечательных зданий, доселе существующих, и многие из них на другие места переставили.
Оболтусов. Что ж тут важного?.. Кто там живет, тот тотчас и видит, в чем ошибка, а я делаю исследования исторические. Вот еще не угодно ли отрывок из моей поэмы? Дело состоит в том, что театр освещен и… да, я забыл самое главное: я перевожу плоды величайшего гения древности… Потрудитесь объявить в вашей газете, что один известный литератор, или известный писатель и ученый, принял на себя труд, ну и т. д… понимаете?..
Семячко. Очень понимаю, чего вы хотите.
Оболтусов. Итак, я надеюсь, что вы исполните мою просьбу. А за повесть мне, я думаю, и деньги получить можно.
Семячко. У нас деньги обыкновенно платятся, когда статья напечатается, и притом только известным литераторам, заслужившим имя в публике.
Оболтусов. Да вот как вы напечатаете мою повесть, так я и буду известный литератор, а деньги до того времени подожду.
Семячко. (Долгонько ждать придется.)
Оболтусов. Итак, до свидания. (Уходит.)
Семячко. Молодец… в 16 лет всю мудрость поглотил. Чему же мы до сей поры учимся?.. Он на восточных языках читать не умеет, а переводит «Саконталу», не знает истории, а пишет историческую критику… и какой китаец!.. Ах! боже мой! уж половина двенадцатого. Что будет, если я не успею… (Читает корректуру.) Славная статья… только половину надо выкинуть.
Слышен звонок.
Опять, да что же это, наконец?
Входит Пельский.
А! это вы?.. Ну, слава богу, вы мне поможете, милейший мой. Вот вам, почитайте от скуки. Вы, кажется, ничего не делаете.
Пельский. Помилуйте, кто вам сказал?.. Да я целый день за работой.
Семячко. А всё ничего нет. Что ж вы сделали?
Пельский. Повесть написал, другую начал, драму продолжаю, к чужому водевилю куплеты приделываю, поему переделываю, литературные сцены пишу.
Семячко. Всё вдруг… Вот от этого-то у вас и не выдет ничего путного. Что вы так расстроены?
Пельский.
В моей душе мороз трескучий,
А над душой клубятся тучи,
А за душою ни гроша.
О, как пуста моя душа!..
Жизнь глупа, очень глупа. Особенно наша литературная.
Семячко. Стыдитесь жаловаться. У вас есть определенная работа. Сделал, да и гуляй себе на все четыре стороны. Вы ни за что не отвечаете, а мы отвечаем даже за вас. Вы глупо напишете, нас бранят; вы сделаете промах, нас обвиняют в неосмотрительности. Ваша жизнь завиднее нашей, вы сотрудники, а мы труженики.
Пельский. Оно отчасти так, да вы сами виноваты. Ваши враги вас бранят, смеются над вашей фамилией, делают из нее каламбуры; а вы не отвечаете им.
Семячко. Я литератор, а не торговка с рынка. Я могу входить в спор литературный, где от столкновения мнений может произойти польза для науки, искусства или словесности, но в торгашнические перебранки, порожаемые спекулятивным взглядом на литературу моих противников, я входить не могу и не намерен.
Пельский. Положим, так, да публика-то на их стороне, она думает, что вы молчите потому, что не имеете ничего сказать в оправдание.
Семячко. Пусть себе думают что хотят. Я для этого не намерен отступать от моих правил и пятнать страницы моей газеты тою ржавчиною литературы, которую желал бы смыть кровью и слезами. Я хочу исполнять свое дело добросовестно и честно. Кто любит то и другое — тот поймет меня без полемических вылазок.
Слышен звонок.
Вот опять кто-то… Беда мне с посетителями! Вот, кстати, посмотрите, какое уморительное письмо я получил сегодня.
Пельский (читает). «Посылаю к вам мою комедии* для помещения в *** и прошу вас выслать мне за нее к празднику тысячу рублей серебром!» Ого-го! какой хват! Мы целый год тянем лямку, да этак не выписываем. Чудаки! Забились в провинцию и думают, что здесь деньги куры не клюют.
Семячко. Да посмотрите, какая вздорная вещь… Смысла нет. Разоряют меня эти господа… беспрестанно нужно платить за объявление да посылать в почтамт.
Входит Шрейбрун, в нанковом сюртуке, с клеенчатым картузом в руках, и низко кланяется; за ним входит женщина и двое запачканных мальчишек, одетых в курточки.
Шрейбрун (низко кланяясь). Извините, беспокою вас, крайняя нужда, ребятишки плачутся. У меня их, я вам откровенно скажу, не столько, что вы здесь видите… эти побольше, а то есть еще маленькие, которые чуть ходят, и еще самые маленькие, которые совсем ходить не умеют. Всего восемь человек, а девятый… но вы сами видите, в каком положении моя жена… жена, подойди поближе!
Семячко. Что вам угодно?
Шрейбрун. Дед мой был содержателем трактирного заведения в **гофе. Работая усердно и продавая иностранные вина российского производства, он зашиб-таки себе копеечку; в то же время жена его, покойная моя бабушка, скончалась… дед мой… но надо вам прежде сказать, что это была за чудная женщина; наше семейство по справедливости гордится ею. Она, видите ли…
Семячко. Позвольте вам заметить, что я в первый раз вас вижу и лучше бы хотел знать, с кем имею честь говорить.
Шрейбрун. Фон Шрейбрун, внук содержателя трактирного заведения в **гофе.
Семячко. Теперь прошу объяснить причину вашего посещения.
Шрейбрун. Отец мой в малолетстве занимался резанием листов курительного табака и получил от этого необыкновенную страсть к курению. Потом он начал курить водку, и эта страсть имела пагубные последствия: куря табак, он любил запивать его пуншем; для этого ходил в гостиницу, где, скучая пить в бездействии, играл в кости; таким образом, табак был причиною, что он в год прокурил всё свое достояние. За год до этого несчастия я, не ожидая такого оборота дел, женился на прекрасной, но бедной девице — Каролине Христиане Эрнестине Амалии, которую и теперь обожаю. Каролина! поди поцелуй своего верного мужа.
Каролина подходит и целует его.
Семячко. (Что за комедия!..) Ну-с?
Шрейбрун (со слезами). Добрая она, очень добрая женщина; в ней всё мое утешение. Если вы не женаты, государь мой, выберите себе такую же жену; не будете раскаиваться. Вскоре жена моя подарила мне сынишку, и счастье мое увеличилось. Он весь в меня… Поди сюда, Иозеф, и ты, Иоганн! Обнимите своего несчастного отца.
Дети обнимают его; он плачет.
Добрые, предобрые дети… Дай бог и вам таких.
Семячко. (Я теряю терпение! Если он будет продолжать, он отнимет у меня всё утро, а мне дорога каждая минута.) Что ж дальше?.. Только, сделайте одолжение, сократите ваш рассказ. Я горю нетерпением узнать развязку.
Шрейбрун. Она в высшей степени трагическая. Всё, что осталось после отца… Увы! после него осталось только несколько ящиков сигар и одиннадцать пенковых трубок… Я продал… но ненадолго стало мне выручки. Я разорился и принужден был идти по миру. Я упал на грудь моей Каролины и горько заплакал. (Плачет.) Поди ко мне, добродетельнейшая женщина! Помнишь ли ты этот роковой день?..
Каролина заливается слезами и падает к нему на грудь.
Пельский. (Да, черт возьми! прогоните их.) Семячко. Милостивый государь, извините, если я вам скажу, что мне некогда, и потому прошу вас поскорей объяснить, какое вы имеете дело?
Шрейбрун. Чем шататься по миру, я решился лучше идти в наставники юношества; но… видно, уж такая несчастная участь моя… до сей поры я, немец, не могу добиться учительского места. Вот уж восемь лет живу здесь; шарманка и мое слабое искусство в песнопении доставляли мне пропитание; но, увы! шарманка испортилась, в я с семейством охрип от холода… Жена! дети!.. падайте на колена перед его милостию! Он только может помочь нам.
Каролина и двое детей бросаются на колени.
Обнимайте его колена; называйте благодетелем.
Жена и дети. Благодетель!
Семячко. Да встаньте, ради бога. Что за сцена: вы ценя с ног сшибете.
Шрейбрун. Будьте великодушны… не оставьте обратить взор сострадания на слезы детей и на меня — представителя благородной фамилии — внука…
Семячко (вынимает деньги из бумажника). Вот, извольте… сколько могу… двадцать пять рублей…
Шрейбрун. Нет, нет! помилуйте, как можно!
Семячко. Так вот пятьдесят. Только уйдите от меня. Мне некогда, право, некогда.
Шрейбрун. Нет, нет… деньги — фуй! Как можно! не деньгами вы можете помочь…
Семячко. Чем же? Говорите скорей. (Вот послал бог беду и в какое время!)
Шрейбрун. Изыскивая средства к существованию, я несколько раз подавал прошение о помещении меня на учительское место, о воспитании детей, о денежном вспомоществовании, и на все просьбы мне отказано. Несчастия мои никого не тронули. Милостивый государь, вы так хорошо владеете пером, вы так хорошо пишете комедии; напишите мне прошение: оно всех тронет до слез, надо мною сжалятся. Жена, дети, падайте на колена, целуйте подошву ног вашего благодетеля!
Жена и дети бросаются к ногам Семячко.
Семячко. (Что тут прикажете делать?.. Скажу, что напишу, только бы отделаться.)
Шрейбрун. Будьте благодетель, я стою на краю гибели… поддержите меня…
Похвально, должно и прилично
В беде несчастным помогать;
Ведь вы владеете отлично
Высоким даром убеждать.
Вы тронуть можете словами,
Мне не прожить без вас и дня.
Я на коленях перед вами,
Поставьте на ноги меня!
Семячко. Хорошо; я подумаю о вашей просьбе, наведайтесь ко мне на днях…
Шрейбрун (с радостью). О, как я счастлив! Жена, дети, подите оросите слезами надежды грудь мою!
Всё семейство обнимается.
Прощайте, я оставляю вас, благодетель мой, чтоб увидеть в другой раз вестником нашего спасения. Благодарность моя и нашего семейства… жена, дети! да что ж вы стоите как статуи, благодарите!
Семячко. Не стоит благодарности; до свидания…
Шрейбрун. До радостного свидания.
Уходят, низко кланяясь.
Пельский. Я чуть не лопнул со смеху.
Семячко. Вам смешно, а мне плакать хочется; уж скоро час…
Слышен звонок.
Вот опять кто-то…
Входит Будкин, франт в закрученных усах, раззавитой и раздушенный.
Будкин. Я имею удовольствие видеть господина Семячко?
Семячко. Так точно. Что вам угодно?
Будкин. Я так уважаю вас по вашим сочинениям, так восхищаюсь ими… С восторгом узнал я, что вы издаете журнал, и поспешил подписаться… Не позволите ли?..
Семячко. Для этого у меня есть контора, пожалуйте туда.
Будкин. Скажите, а я этого не знал… Но уж всё равно, позвольте у вас… вот деньги. (Кладет на стол,)
Семячко. Уж если вам так хочется, то пожалуйте ваш адрес. (Звонит, лакей входит). Отошли этот адрес и деньги в контору.
Будкин. Надеюсь, что этот случай доставит мне удовольствие иметь вас в числе моих знакомых… Я всегда читаю ваши театральные статьи и ими восхищаюсь… А, кстати, были ли вы в последнем бенефисе? Не правда ли, как хорошо играла Глазкина? Талант, решительный талант… вот вы строги к ней…
Семячко. Что делать, извините, я пишу по убеждению. (Закуривает сигару.)
Будкин. А! вы любитель сигар… Ах, какие я на днях достал сигары! Настоящие гаванские, прямо из Америки… Я по случаю, знаете, через одного посланника…
Семячко. Не американского ли?
Будкин. Да, да, американского! Но это манна, я вам скажу. Окажите дружбу; позвольте поделиться с вами… Я вам сегодня же пришлю одну тысячу…
Семячко. Не беспокойтесь, очень благодарен, у меня их большой запас.
Будкин. Ничего! еще больше запасете. Так мы говорили… Отчего же иногда и не похвалить талант… А? сделайте одолжение, приезжайте сегодня к Кулону… мы там пообедаем… я так дорожу вашим обществом… В последний раз Глазкина была верх совершенства; жаль, что вы ее не видали. Грех сказать об ней что-нибудь дурное или что-нибудь хорошее о ее соперницах, чем она еще больше обижается… Да мы с вами об этом еще потолкуем; приходите же к Кулону…
Семячко. Не могу, я очень занят…
Будкин. Дела в сторону… А скажите откровенно, неужели вы то же думаете о Глазкиной, что пишете?
Семячко. Я пишу, что думаю.
Будкин. Ну, полноте; она с большим талантом и об вас так хорошо отзывается. Пора вам переменить гнев на милость… (Смотрит на часы.) Что это, ваши столовые часы стоят? Э! да это здешние, сборные… Нет, вот у меня есть настоящие французские… Контрабанда! Из Парижа вывез… Полторы тысячи франков там заплатил… Окажите дружбу — позвольте вам прислать…
Семячко. Для чего, помилуйте?..
Будкин. У меня они лишние; мне очень приятно будет услужить вам для первого знакомства. А право, Глазкина хорошая актриса… Согласитесь сами, что вы были несколько строги к ней…
Семячко. Я сказал свое мнение и не отступлюсь от него.
Будкин. Но она могла исправиться, перемениться, сделать успехи… Однако, я вижу, вы дорожите временем, не хочу мешать… так мы увидимся?.. Не так ли? — в пять часов у Кулона… мы там потолкуем за бутылкой шампанского об искусстве… Кто не переменял мнений!.. Глазкина всегда так много говорит об вас хорошего… она так дорожит вашим мнением… но об этом за десертом. Итак, вы будете?
Семячко. Если позволят дела…
Будкин. Как хотите, а я не уйду, пока вы не дадите слова.
Семячко. Нечего делать, буду.
Будкин. Хорошо, я жду… До свидания.
Семячко. Мое почтение.
Будкин уходит. Семячко садится писать.
Пельский. Вы статью дописываете?
Семячко. Нет, пишу записку, что дела задержали меня, что я никак не могу обедать с этим молодцом.
Пельский. Как? Вы раздумали?
Семячко. Помилуйте… Разве вы не поняли его цели? Он пришел подкупить мое беспристрастие, ему нужно, чтоб я хвалил эту актрису…
Пельский. Да, да, да!
Семячко. Человек!
Входит слуга.
Когда будет приходить этот господин или пришлет что-нибудь — не принимать; говори, что меня дома нет; что я съехал, выехал из города, что ошиблись домом, подъездом, что хочешь, только б я его не видал.
Слуга. Слушаю-с. Из типографии, сударь, пришли… Какой-то билигарфии просят… двенадцать строк не хватило.
Семячко. Библиографии! Хорошо, скажи, что пришлю.
Слуга уходит.
Еще беда!.. Надо писать разбор книги в двенадцать строк…
Слышен звонок.
Кого-то бог несет? При каждом ударе колокольчика у меня сердце так и вздрогнет… Шепните ужо человеку, чтоб он такого не пускал.
Входит Пуговицын, в худом вицмундире, с бархатным воротником; по приемам и физиономии видно, что закоренелый подьячий.
Пуговицын. С глубочайшим и таковою же… Ваш нижайший слуга… Пуговицын-с.
Семячко. Что вам угодно?
Пуговицын. Я, вот изволите видеть, с малолетства в земском суде служил. Сначала я был писцом, потом с божией помощью вышел в заседатели. По особенному благоволению местного начальства, быв неоднократно посылаем на следствия, в продолжение службы произвел их до пятисот, без всякого содействия капитан-исправника и дворянского заседателя, который, не тем будь помянут… теперь уж он (показывая вверх) там…
Семячко. А что далее?
Пуговицын. Вот, изволите видеть, самыми обстоятельствами я был поставлен на такую выгодную позицию, с которой мог безукоризненно наблюдать нравы и обычаи. Я наблюдал с разборчивостью и надлежащей осмотрительностью и записывал мои наблюдения. Ныне я вышел в отставку; приехав сюда, дошло до сведения моего, что вы изволите платить полтораста рублей за лист… Надеюсь, что не откажете принять мои сочинения.
Семячко. Я посмотрю… (А! чтоб его черт взял… уж два часа.)
Пуговицын. Могу поручиться за верность… всё истинные происшествия: по горячим следам схвачено… Да вот, не угодно ли, я прочту что-нибудь… Вот-с повесть «Нищая». Это, изволите видеть, чистая истина, — у нас в земском суде и теперь дело хранится. Она была, сердечная, из благородной фамилии; зарезала несколько человек, так, не нарочно, совершенно невинным образом… Так вот, видите, я и назвал повесть «Нищая, или Невинная виновница».
Вбегает Трезвонов.
Семячко. (Вот тебе на!.. Еще один… Теперь их не выживешь.) (Пельскому.) Читайте хоть вы корректуру поскорей…
Пельский. Читаю, читаю.
Трезвонов. Простите великодушно… Дворовый человек ваш сказал, что вас дома нет, но я вошел помимо его объяснения; мне крайняя нужда, я же третий раз прихожу. (Становится в позицию и декламирует.)
Со брегов Оки цветущих
Дух мой рвался на Парнас,
И, помимо всех живущих,
Наконец я вижу вас…
Это приветствие — экспромтом; а вот теперь послушайте стихотворение, которым я хочу подарить ваш журнал. (Читает.)
Четыре есть реки на белом свете — длинных,
Широких и больших, глубоких и картинных;
Четыре красоты на белом свете есть,
Величие души, богатство, слава, честь…
Но в бренной жизни сей, в превратном этом мире
Пороков и грехов — четырежды четыре!
Пельский. (Как это дико! Да это что-то а la Грибовников.)
Семячко. (И слезы и смех… А статья моя всё не пишется.)
Трезвонов. Так вот вам-с; напечатаете — еще дам.
Семячко. Очень благодарен.
Трезвонов. Ну, одно дело с плеч долой. Теперь в театральную дирекцию: хочу поставить трагедию.
Пуговицын. А вы и трагедии пишете?
Трезвонов. Как же, это главное мое занятие.
Лакей (входит). Из типографии, сударь, пришли, требуют назад корректуры да оригиналу просят, говорят, что, если к четырем часам не будет, нумер завтра не выдет.
Семячко. В четыре, а теперь уже половина третьего! (Притом этих господ до завтра не выживешь…) Польский, дайте ему корректуру, сколько прочитано.
Трезвонов. Так, так… вот хоть спросим их… по триста рублей за акт оригинальный…
Пуговицын. Скажите, а я и не знал. Вот мне всего лучше для театра писать, непременно буду… двойная польза…
Трезвонов. Послушайте-ка. Я вам прочту отрывочек…
Пуговицын. С удовольствием.
Семячко. Господа, извините меня, право, мне некогда; если угодно читать, пожалуйте в эту комнату.
Трезвонов. Очень хорошо-с.
Трезвонов и Пуговицын уходят в соседнюю комнату.
Семячко. Ну, слава богу! Теперь начну писать статью, а вы дочитывайте корректуру.
Садятся за работу.
Прыткой (актер, входит). Здравствуйте, что поделываете? здоровы ли вы?
Семячко. Слава богу! Только дела пропасть.
Прыткой. Слава богу — лучше всего. У нас за кулисами теперь только и толкуют о вашей новой пиесе. Бусов громко кричит, что она никуда не годится, что она нелепа. Как можно лгать так бессовестно! Без лести, на мой вкус это прекрасная пиеса; я защищал вас, спорил с Бусовым, а он не перестает говорить свое… Признаться, он человек неспокойный, завистливый… А как он дурно играл в последний раз! Роли никогда не знает, всё по суфлеру, путается в выходах, ломается, фарсит — просто ужас! Вы видели?
Семячко. Видел; мне показалась его игра довольно натуральною.
Прыткой. И полноте, как можно! Загордился очень, никого не слушает, а про ваши замечания говорит, что если б он по ним действовал, то его назвали бы сумасшедшим… Каково? Ваши замечания… да если я пользуюсь сколько-нибудь благосклонностию публики, то единственно вам обязан. Вы так понимаете искусство, что нельзя не последовать вашему совету.
Семячко. (К чему-то это поведет? А часы всё летят да летят, наборщики сидят без дела!)
Прыткой. Я к вам с просьбой, с большой просьбой. Если вы откажете — я погиб.
Семячко. Что такое, мой любезнейший?
Прыткой. Мне назначен бенефис. Не знаю, радоваться или плакать. Переводных пиес брать не хочется. Из оригинальных я ничьей, кроме вашей, не возьму… все пишут так однообразно и не нравятся публике… Вам стоило бы только присесть…
Семячко. Другими словами: вы хотите, чтоб я написал вам к бенефису пиесу. Времени у меня нет, притом я дал себе слово не писать больше для театра.
Прыткой. Вы дали слово… грех, грех! Кто же после этого будет писать для сцены, на что будет смотреть публика?
Семячко. И без меня у нас много великих драматургов. Куда нам! Публика и не заметит моего отсутствия.
Прыткой. Вы решительно отказываетесь? Вы лишаете меня сбора, лишаете счастья видеть публику у себя на празднике… Бог вам судья! Пойду и сейчас же откажусь от бенефиса…
Семячко. (Ступай, голубчик, только оставь меня в покое.)
Прыткой. Что вам стоит написать небольшую пиесу хоть в одном акте; пожалуйста!
Семячко. Послушайте, обещать наверное я не могу, а если мне время позволит…
Прыткой. Ну, слава богу, на душе легче!.. Я не ошибся в вас… Вы давали пиесы Бусову, который беспрестанно бранит вас, так неужели мне откажете? Я вас уважаю от души и всегда горой стою за вас. Итак, я надеюсь… Помните же обещание… Мне рольку, да нельзя ли покороче и, пожалуйста, без куплетов, учить и некогда в не хочется…
Семячко. Хорошо, хорошо!
Прыткой уходит.
Хорош молодец, просит для себя в бенефис пиесу, а лень куплеты выучить.
Пельский. А слышали, что Бусов-то делает? А вы еще его хвалите…
Семячко. Вы и поверили… Это сплетни, мой милый. Он, видно, поссорился с Бусовым, к тому же они соперники, так и пришел вооружить меня против него… Ах, как поздно!., уж четыре часа, надо писать.
Трезвонов (вбегает). Одно слово, одно слово!., господин Семячко… вот у нас вышел спор… Изволите видеть; у меня действие в Риме, за семь лет до рождества Христова. Театр представляет наводнение. Жители встревожены, палят из пушек… Так вот они говорят, что пушек не было…
Пуговицын (вбегает). Не пушек… Я совсем не то сказал. А йот видите, в чем дело. Однажды, по формальному предписанию местного начальства, — оно и теперь у меня хранится, — отправился я на следствие… вот сижу, делаю опись имению покойного; вдруг вижу, между прочим, книгу. Я от природы к литературе имел влечение: прямо развернул да и стал читать, и начитал там, что порох изобретен множество — не помню именно сколько — веков после рождества Христова. Как же теперь они могли палить из пушек, когда порох не был еще изобретен?
Семячко. Ваша правда.
Трезвонов. Как, помилуйте!.. Да разве нельзя стрелять чем другим без пороху?.. Возьмем самые простыв явления природы, например: намедни был ужасный мороз… так стрелял, что целую ночь мне спать не дал; опять возьмите, как мебель стреляет, когда стоит в сухой комнате.
Семячко. Да, да… вы оба правы, господа; нет никакого сомнения…
Трезвонов. Ну вот, так и есть. Уж я ли ошибусь в таких пустяках.
Пуговицын. Однако ж и я сказал не без основания…
Уходят.
Семячко. Да что же это будет?.. Когда же они уйдут?.. Вот уже смерклось…
Пельский. Просто прогнать их.
Семячко. Нехорошо: обидишь… Ведь они добры, только глупы: теперь, может быть, успокоятся. (Садится за работу.)
Пуговицын (а за ним Трезвонов). Опять-таки не так. Вот они разрешат наш спор; они в этом деле опытны…
Трезвонов. Послушайте. У меня сказано в IV явлении:
На улице народ бездомный прохлаждался,
И между ними вдруг вельможа показался;
Тут нищие толпой отхлынули с дороги,
Безногий же упал ему с почтеньем в ноги.
Пуговицын. Я, видите, говорю, что не должно безногому падать в ноги, потому что в отношении к вельможе он уже и так в почтительной позиции.
Семячко. Можно, господа, всячески можно… И так и сяк… Только, пожалуйста…
Трезвонов. Ну вот и вышло по-моему.
Пуговицын. Нет, по-моему.
Уходят.
Пельский. Вот дикой народец! Да что же это в самом деле? Я прогоню их…
Семячко. Не заведите какой истории…
Пельский. Не прогоню, а просто учтиво выпровожу.
Семячко. Теперь уж всё равно: корректура только что выправлена; статья не только не набрана, но еще и не написана, а уж темно… Разве ночь в типографии просидеть?
Входит Сухожилов, толстый помещик, в длинном, широком сюртуке.
Сухожилов. Так здесь, вот он… О, как я рад! с самого отъезда из тамбовской моей деревни я размышлял, как приеду, как пойду к нему, как обниму его. О, как я рад, что наконец могу исполнить мое желание. (Бросается к Семячко в объятия.)
Семячко. Помилуйте, мне очень приятно… но я, право, не знаю за что?
Сухожилов. Как за что? Да вы благодетель мой!
Семячко. Очень приятно… Но с кем я имею честь говорить?
Сухожилов. Я тамбовский помещик, Серапион Степаныч Сухожилов.
Семячко. Я в первый раз имею честь слышать эту фамилию.
Сухожилов. Вы меня не знаете, но всё-таки вы мой благодетель. Я всегда буду считать вас лучшим моим другом, всегда буду обязан вам благодарностью.
Семячко. Право, я в недоумении… Не знаю, каким образом мог заслужить ваше расположение…
Сухожилов. В том-то и штука. Я объясню вам как.
Семячко. Это очень интересно.
Сухожилов. Вы спасли мою дочь.
Семячко. Каким образом?
Сухожилов. Бедняжка чахла… Была на краю гроба… Доктора отказались ее лечить; у нее была какая-то внутренняя болезнь… вдруг…
Семячко. Ну-с?
Сухожилов. Надо вам сказать, что хотя нас здесь считают медведями, однако ж я и мои соседи занимаемся иногда литературою, знаете, от нечего делать. Вот я и подписался на ваш журнал. Дочь моя стала читать и… о, вы благодетель мой! (Кидается обнимать его.)
Семячко. Я всё еще ничего не понимаю.
Сухожилов. Стала читать ваш журнал, и вот ей всё легче, легче, и теперь она совсем здоровехонька.
Семячко. Но я сомневаюсь, чтоб мой журнал имел такое целебное свойство.
Сухожилов. Что хотите думайте, я знаю только, что вы мой благодетель!
Трезвонов (вбегает). Он решительно ничего не поймает в драматическом искусстве…
Пуговицын. Невежда, решительный невежда… Рассудите нас, господин Семячко, вот у нас вышел спор…
Трезвонов. Какой спор! с вами спорить не стоит. Вы ничего не смыслите… Вы просто мараете бумагу.
Пуговицын. Да вы-то что? то ж самое!
Семячко. (Ну, пошла кутерьма! Ах, господи! Уж пять часов… Нумер завтра не выдет… Что мне делать? Как бы скорее с ними развязаться да убежать на ночь в типографию?)
Трезвонов. Вы пишете бессмысленные фантазии…
Пуговицын. А вы черт знает что пишете.
Семячко. Господа, пожалуйста, перестаньте ссориться… Право, мне некогда, нужно идти.
Трезвонов. Некогда! вам некогда, то есть вы просто нас выгоняете. Хорошо же, прощайте… не будет вам ни единой моей строки! Пожалуйте рукопись назад.
Пуговицын. И мою тоже.
Семячко (отдавая рукописи). С радостью.
Трезвонов и Пуговицын. Вы нас больше никогда не увидите.
Уходят.
Семячко. Очень рад. Иоганн, давай мне скорее одеваться.
Сухожилов. Вам некогда. Позвольте надеяться, что в другое время…
Слуга (входит). Из типографии фактор пришел…
Семячко. Зови сюда.
Сухожилов. Мое почтение. (Уходит.)
Семячко. Вот денек выдался!
Фактор (входит). Наборщики целый день сидели без работы и наконец, не слушая моих увещаний, разошлись по домам.
Семячко. Так и есть, предчувствие мое сбылось… О, проклятые посетители! Нумер завтра не выдет. А всё они!., во весь день не дали ничего сделать… Этакого черного дня у меня еще не бывало. Нет, вперед буду осторожнее, не велю никого пускать… А к кабинету замок приделаю… табак спрячу, сигары также! Что теперь делать?..
А завтра публика что скажет?
Она меня же обвинит!
Кто правоту мою докажет?
Кто ей всё дело объяснит?
Кто скажет ей, что на рассвете
Я встал, забыв и сон и лень,
И что на нашем белом свете
Мне ежедневно — черный день?