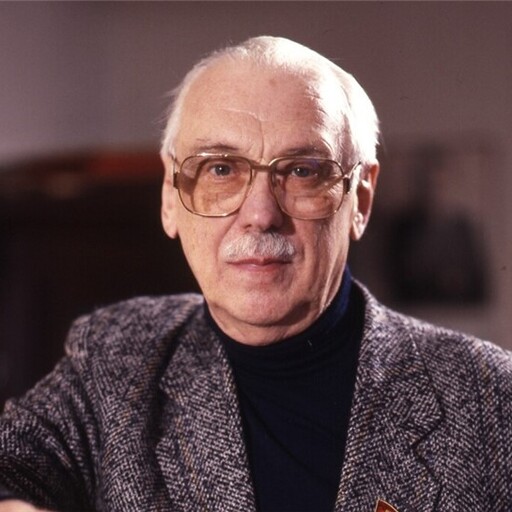По большаку, правее полустанка,
Идти пять верст — деревня Хуторянка.
Спервоначалу были хутора,
Да разрослись. И стали год за годом
Дружнее жить, богаче быть народом —
Деревней стали. Сорок два двора.
Вокруг луга — есть чем кормить скотину.
Густы леса — орешник да малина.
Всего хватает: и грибов и дров.
Сойдешь под горку, тут тебе речушка,
А там, глядишь, другая деревушка,
Но в той уже поменее дворов…
Живет народ, других не обижая,
От урожая и до урожая,
От снега до засушливой поры.
И у соседей хлебушка не просит.
И в пору сеет. В пору сено косит.
И в пору чинит старые дворы.
И землю под озимые боронит,
Гуляет свадьбы, стариков хоронит,
И песни молодежные поет,
Читает вслух газетные страницы…
За тридевять земель Москва-столица,
И дальний поезд до нее везет…
В родной деревне, третья хата с краю,
Другой судьбы себе не выбирая,
Полвека честной жизни прожила
Хохлова Груша. В тихой Хуторянке
Прошла в труде крестьянском жизнь крестьянки,
И не приметишь, как она прошла.
Здесь в девках бегала, здесь в хороводах пела,
Здесь на гулянках парня присмотрела,
Вошла к нему хозяйкой в бедный дом.
Здесь называлась Грушею-солдаткой,
Здесь тосковала, плакала украдкой,
Здесь вынянчила четверых с трудом.
Она порой сама недоедала,
Чтоб только детям досыта хватало,
Чтоб сытыми вставали от стола.
Она с утра к соседям уходила,
Белье стирала и полы скоблила —
В чужих домах поденщину брала.
Она порой сама недосыпала,
Ложилась поздно и чуть свет вставала,
Чтоб только четверым хватало сна.
И выросли хорошие ребята,
И стала им тесна родная хата,
И узок двор, и улица тесна.
Последнего она благословила,
Домой пришла, на скобку дверь закрыла,
Не раздеваясь села в уголок.
Стучали к ней — она не открывала,
До поздней ночи молча горевала —
Все плакала, прижав к лицу платок.
Она с людьми тоской не поделилась.
Никто не видел, как она молилась
За четверых крестьянских сыновей,
Которых не вернуть теперь до дому,
Которым жить на свете по-иному —
Не в Хуторянке, а в России всей…
…Она хранила у себя в комоде
Из Ленинграда письма от Володи,
Из Сталинграда письма от Ильи,
Одесские открытки от Андрея
И весточки от Гриши с батареи
Из Севастополя. От всей семьи.
В июньский полдень в тесном сельсовете
По радио — еще не по газете, —
Когда она услышала: «Война!» —
Как будто бы по сердцу полоснули,
Как села, так и замерла на стуле, —
О сыновьях подумала она.
Пришла домой. Тиха пустая хата.
Наседка квохчет, просят есть цыплята,
Стучит в стекло — не вырвется — пчела.
Четыре мальчика! Четыре сына!
И в этот день еще одна морщина
У добрых материнских глаз легла.
…Косили хлеб. Она снопы вязала
Без устали. Ей все казалось мало!
Быстрее надо! Жаль, не те года!
И солнце жгло, и спину ей ломило,
И мать-крестьянка людям говорила:
«Там — сыновья. И хлеб идет туда».
А сыновья писали реже, реже,
Но штемпеля на письмах были те же:
Одесса, Севастополь, Сталинград
И Ленинград, где старший сын Володя,
Работая на Кировском заводе,
Варил ежи для нарвских баррикад.
Когда подолгу почты не бывало,
Мать старые конверты доставала,
Читала письма, и мечталось ей:
Нет на земле честнее и храбрее,
Нет на земле сильнее и добрее
Взращенных ею молодых парней.
Тревожные в газетах сводки были,
И люди об Одессе говорили,
Как говорят о самом дорогом.
Старушка мать — она за всем следила —
Шептала ночью: «Где же наша сила,
Чтоб мы могли расправиться с врагом?»
О, как она бессонными ночами
Хотела повидаться с сыновьями,
Пусть хоть разок, пусть, провожая в бой,
Сказать бойцу напутственное слово.
Она ведь ко всему теперь готова —
К любой беде и горести любой.
Но не могло ее воображенье
Представить город в грозном окруженье,
Фашистских танков черные ряды,
К чужой броне в крови прилипший колос.
Не слышала она Андрея голос:
«Я ранен… мама… пить… воды… воды».
Пришел конверт. Еще не открывала,
А сердце матери уже как будто знало…
В углу листка — армейская печать…
Настанет день, Одесса будет наша,
Но прежних строчек: «Добрый день, мамаша!» —
Ей никогда уже не получать…
…Глаза устали плакать — стали суше,
Со временем тоска и горе глуше.
Дров запасла — настали холода.
Шаль распустила — варежки связала,
Потом вторые, третьи… Мало, мало!
Побольше бы! Они нужны туда!
Все не было письма из Ленинграда.
И вдруг она услышала: «Блокада».
Тревожно побежала в сельсовет,
Секретаря знакомого спросила.
Тот пояснил… Опять душа заныла,
Что от Володи писем нет и нет.
Пекла ли хлеб, варила ли картошку,
Все думала: «Послать бы хоть немножко.
За тыщу верст сама бы понесла!»
И стыли щи, не тронутые за день:
Вся в думах о голодном Ленинграде,
Старуха мать обедать не могла.
Она была и днем и ночью с теми,
Кто день и ночь, всегда, в любое время,
Работал, защищая Ленинград,
И выполнял военные заданья
Ценой бессонницы, недоеданья —
Любой ценой, как люди говорят…
…Опять скворцы в скворечни прилетели,
И ожил лес под солнышком апреля,
И зашумели вербы у реки…
Из Севастополя прислал письмо Григорий:
«Воюем, мать, на суше — не на море.
Вот как у нас дерутся моряки!»
Она письмо от строчки и до строчки
Пять раз прочла, потом к соседской дочке
Зашла и попросила почитать.
Хоть сотню раз могла она прослушать,
Что пишет сын про море и про сушу
И про свое уменье воевать.
И вдруг за ней пришли из сельсовета.
В руках у председателя газета:
— Смотри-ка, мать, на снимок. Узнаешь? —
Взглянула только: «Сердце, бейся тише!
Он! Родненький! Недаром снился! Гриша!
Ну до чего стал на отца похож!»
Собрали митинг. Вызвали на сцену
Героя мать — Хохлову Аграфену.
Она к столу сторонкой подошла
И поклонилась. А когда сказали,
Что Гришеньке Звезду Героя дали, —
Заплакала. Что мать сказать могла?..
…Шла с ведрами однажды от колодца,
Подходит к дому — видит краснофлотца.
Дух захватило: Гриша у крыльца!
Подходит ближе, видит: нет, не Гриша —
В плечах поуже, ростом чуть повыше
И рыженький, веснушчатый с лица.
— Вы будете Хохлова Аграфена? —
И трубочку похлопал о колено.
— Я самая! Входи, сынок, сюда! —
Помог в сенях поднять на лавку ведра,
Сам смотрит так улыбчиво и бодро —
Так к матери не входят, коль беда.
А мать стоит, глядит на краснофлотца,
Самой спросить — язык не повернется,
Зачем и с чем заехал к ней моряк.
Сел краснофлотец: — Стало быть, мамаша,
Здесь ваша жизнь и все хозяйство ваше!
Как управляетесь одна? Живете как?
Мне командир такое дал заданье:
Заехать к вам и оказать вниманье,
А если что — помочь без лишних слов.
— Ты не томи, сынок! Откуда, милый?
И кто послал-то, господи помилуй?
— Герой Союза старшина Хохлов!
Как вымолвил, так с плеч гора свалилась,
Поправила платок, засуетилась:
— Такой-то гость! Да что же я сижу?
Вот горе-то! Живем не так богато —
В деревне нынче с водкой плоховато,
Чем угостить, ума не приложу!
Пьет краснофлотец чай за чашкой чашку;
Распарился, хоть впору снять тельняшку,
И, вспоминая жаркие деньки,
Рассказывает складно и толково.
И мать в рассказ свое вставляет слово:
— Вот как у нас дерутся моряки!
— Нас никакая сила не сломила.
Не описать, как людям трудно было,
А все дрались — посмотрим, кто кого!
К самим себе не знали мы пощады,
И Севастополь был таким, как надо.
Пришел приказ — оставили его…
— А Гриша где? — Теперь под Сталинградом,
В морской пехоте. — Значит, с братом рядом?
Там у меня еще сынок, Илья.
Тот в летчиках, он у меня крылатый.
Один — рабочий, три ушли в солдаты. —
Моряк в ответ: — Нормальная семья!
Она его накрыла одеялом,
Она ему тельняшку постирала,
Она ему лепешек напекла,
Крючок ослабший намертво пришила,
И за ворота утром проводила,
И у ворот, как сына, обняла…
…В правлении колхоза на рассвете
Толпились люди. Маленькие дети
У матерей кричали на руках.
Ребята, что постарше, не шумели,
Держась поближе к матерям, сидели
На сундучках, узлах и узелках…
Они доехали. А многие убиты —
По беженцам стреляли «мессершмитты»,
И «юнкерсы» бомбили поезда.
Они в пути тяжелом были долго,
За их спиной еще горела Волга,
Не знавшая такого никогда.
Теперь они в чужом селе, без крова.
Им нужен кров и ласковое слово.
И мать солдатская решила: «Я — одна…
Есть у меня картошка, есть и хата,
Возьму семью, где малые ребята,
У нас у всех одна беда — война».
Тут поднялась одна из многих женщин
С тремя детьми, один другого меньше,
Три мальчика. Один еще грудной.
— Как звать сынка-то? — Как отца, — Анисим.
Сам на войне, да нет полгода писем…
— Ну, забирай узлы, пойдем со мной!
И стали жить. И снова, как бывало,
Она пеленки детские стирала,
Опять повисла люлька на крюке…
Все это прожито, все в этой хате было,
Вот так она ребят своих растила,
Тоскуя о солдате-мужике.
* * *
В большой России, в маленьком селенье,
За сотни верст от фронта, в отдаленье,
Но ближе многих, может быть, к войне,
Седая мать по-своему воюет,
И по ночам о сыновьях тоскует,
И молится за них наедине.
Когда Москва вещает нам: «Вниманье!
В последний час… » — и затаив дыханье
Мы слушаем про славные бои
И про героев грозного сраженья, —
Тебя мы вспоминаем с уваженьем,
Седая мать. То — сыновья твои!
Они идут дорогой наступленья
В измученные немцами селенья,
Они освобождают города
И на руки детишек поднимают;
Как сыновей, их бабы обнимают.
Ты можешь, мать, сынами быть горда!
И если иногда ты заскучаешь,
Что писем вот опять не получаешь,
И загрустишь, и дни начнешь считать,
Душой болеть — опять Илья не пишет,
Молчит Володя, нет вестей от Гриши,
Ты не грусти. Они напишут, мать!