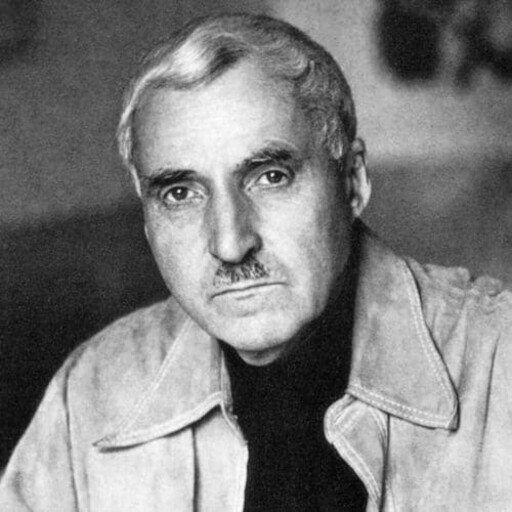Я там не был зимой.
Но я знаю: с утра
ветер бьет о замерзшую воду.
Снега нет и в помине.
Ветра. Ветра.
Адовая погода.
В эту продрогшую землю
в мелких порошинках инея,
словно их тронула проседь,
вдавлены танков следы.
Они, как тульская сталь, холодные,
синие,
ползут
на Восток,
на Восток
от замерзшей воды.
А над ними,
над ущельем, где разбитые грузовики
вверх колесами спят,
дожидаясь своих мертвых шоферов,
где торчат из-под льда железные
лепестки
изорванных взрывом моторов,
над ущельем, которое
между нами
и ими,
как рваная рана,
встал высокий откос,
острый, как нос корабля.
Он стоит,
глядя прямо в лицо
желтым, острым, как пики, отрогам
Хингана.
Нет, она не кругла здесь,
эта —
политая кровью земля.
И над ней
высоко,
на откосе,
как гнездо орлов,
наше братское кладбище
в горной дымке мороза.
Что скрывать,
деревянные доски
и несколько слов
слишком многим
здесь заменили
пролитые матерью слезы,
но мне кажется —
тут похоронен только один,
он был русый парень с голубыми глазами,
он погиб,
не дожив до первых седин,
до славы,
которая не за горами.
Он летчиком был.
А впрочем, не так:
он был сапером,
он мост наводил под обстрелом.
Нет, он не был сапером.
В одной из атак
он майора
от пули
прикрыл своим телом.
Нет, неправда!
Тогда он выжил, на счастье.
Он в пехоте и не был.
Скорее всего,
говорят, он был из танковой части,
потом ей дали имя его.
Много слухов идет о его кончине:
говорят,
что, от смерти за два шага,
на своей курносой горящей машине
он, и рушась,
еще протаранил врага.
Говорят, он, в сплющенном танке
зажатый,
перед смертью успел обожженным ртом
объяснить экипажу,
как можно последней гранатой
подорваться втроем,
чтоб врагу не достаться живьем.
Говорят,
что, когда его ранили в ногу,
недвижим,
окружен,
далеко от своих,
он, взмахнув над собой пулеметной
треногой,
уложил перед смертью последних троих.
Много слухов идет о его кончине.
Верно, был он героем, если столько о
нем говорят:
как в их полк мать из дому, рыдая,
писала о сыне,
как его гимнастерку надевал его младший
брат.
Говорят,
его имя
дают городам
и рекам.
То жестоко,
то нежно
имя это звучит,
потому что в бою был он очень крутым
человеком,
но к друзьям и к любимым по-детски был
сердцем открыт.
Так был волосом рус он,
а глаза голубые,
так любим он везде был, где довелось
ему жить,
что все девушки плакали,
даже чужие,
и все парни клялись за него отомстить.
Он лежит под землей на границе.
Но он сам — как граница.
Он лежит на орлином утесе.
Но он сам — как орлиный утес.
Он описан на книжных страницах,
но он сам — как живая страница.
Он убит.
Но довольно,
не плачьте —
он не хотел слез.
Он хотел,
чтобы, с глаз их рукавом сдирая,
шли вперед,
скупыми словами
написав о смерти жене.
Это он окровавленным пальцем,
заживо в танке сгорая,
«Большевики не сдаются»
нацарапал на дымной броне.
о живых
Но довольно о мертвых.
Мы живы,
мы победили.
Он был героем,
но все-таки —
лишь одним из многих других.
Говорят, при жизни в друзьях его
сходство с ним находили,
а если так,
значит, стоит
поговорить и о них.
Майор, который командовал танковыми
частями
в сраженье у плоскогорья Баин-Цаган,
сейчас в Москве,
на Тверской,
с женщиной и друзьями
сидит за стеклянным столиком
и пьет коньяк и нарзан.
А трудно было представить себе
это кафе на площади,
стеклянный столик,
друзей,
шипучую воду со льдом,
когда за треснувшим триплексом
метались баргутские лошади
и прямо под танк бросался смертник с
бамбуковым шестом.
Вода…
В ней мелкие пузырьки.
Дайте льду еще!
Похолодней!
А тогда — хотя бы пригоршню
болотной,
в грязи,
в иле!
От жары шипела броня.
Он слыхал, как сверху по ней
гремит бутылка с горящим бензином,
сейчас соскользнет.
Или…
Что или?
Ночная Тверская тихо шуршит в огне..,
Поворот рычага — соскользнула!
Ты сидишь за столом, с друзьями.
А сосед не успел. Ты недавно ездил в
Пензу к его жене,
отвозил ей часы и письма с обугленными
краями.
За столом в кафе сидит человек с пятью
орденами:
большие монгольские звезды
и Золотая Звезда.
Люди его провожают внимательными
глазами,
они его где-то видели,
но не помнят,
где и когда.
Может быть, на первой странице
«Правды»?
Может быть, на параде?
А может быть, просто с юности откуда-то
им знаком?
Нет, еще раньше,
в детстве, списывали с тетрадей;
нет, еще раньше,
мальчишками, за яблоками, тайком…
А если бы
он
и другие
тогда, при Баин-Цагане,
тот страшный километр,
замешкавшись,
на минуту позднее прошли,
сейчас был бы только снег,
только фанерные звезды на монгольском
кургане,
только молчание ничего обратно не
отдающей земли.
По-разному смотрят люди в лицо солдату:
для иных,
кто видал его
только здесь, в Москве, за стаканом
вина,
он просто счастливец,
который
где-то,
когда-то
сделал что-то такое,
за что дают ордена.
Вот он сидит, довольный, увенчанный,
он видел смерть,
и она видала его.
Но ему повезло,
он сидит за столом с друзьями,
с влюбленной женщиной,
посмотрите в лицо ему — как ему хорошо
и тепло!
Да! Ему хорошо.
Но я бы дорого дал, чтоб они
увидали его лицо не сейчас,
а когда он вылезал из своей машины,
не из этой,
которая там, у подъезда,
а из той,
где нет сантиметра брони
без царапин от пуль,
без швов от взорвавшейся мины.
Вот тогда пускай бы они посмотрели в
лицо ему:
оно было усталым,
как после тяжелой работы,
оно было черным,
в пыли и в дыму,
в соленых пятнах
присохшего пота.
И таким
усталым и страшным
оно было тридцать семь раз
и не раз еще будет —
«если завтра война»,
как в песнях поется.
Надо было лицо его видеть
тогда,
а не сейчас,
Надо о славе судить,
только зная,
как она достается.
О МИРАЖАХ
Бригада шла по барханам,
От самого Ундурхана
был только зной и песок,
только зной и песок,
песок
сквозь броню и чехлы.
Приходилось мокрыми тряпками затыкать
кобуру нагана,
как детей,
пеленать крест-накрест орудийные
стволы.
Но глаза —
их не забинтуешь,
они были красными до ожога,
хотелось их разодрать ногтями,
чтоб вынуть песок из-под век.
Он будет сыпаться долго-долго,
как в песочных часах.
В глазах его так много,
что можно,
высыпав весь,
сделать
песчаные берега для нескольких рек,
а всю воду выпить.
Или нет,
оставить немного на дне,
чтоб потом,
на обратном пути,
хоть горстку, глоточек…
Майор просыпается от ожога —
он прижался щекой к броне, —
шестьдесят градусов Цельсия.
В небе несколько точек.
Это орлы ушли вверх от жары.
В броневом зеленом стекле
через цепи низких барханов,
переваливаясь, как утки,
под абсолютно красным солнцем,
по абсолютно желтой земле
абсолютно черные танки
идут уже третьи сутки.
Все цвета давно исчезли.
Остались только три:
желтое…
красное…
черное… —
цвет жары,
цвет крови,
цвет стали.
Майор вылезает на башню.
Он слышит, как там, внутри,
хрипло кашляют люди.
Они чертовски устали,
надо будет сесть самому,
а их
наверх, сюда.
Но сначала,
сначала,
черт возьми, как красиво:
как это ни странно — с башни видна
вода,
настоящая
вдруг, голубая,
а над ней — ивы.
Да, ивы,
нагнулись, как дома на Оке.
Но только они почему-то красного цвета.
И, только что голубая.
вода в реке
начинает краснеть,
краснеть,
как лес на исходе лета.
— Эй, погодите!
Кто поджег воду? —
А ивы гнутся так низко,
так плоско,
что вот они уже как тростник,
как трава.
Заливные луга…
Но сейчас же острой полоской,
как косой, вдоль всего горизонта
подрезает их синева.
И луга уплывают в иссиня-черное небо,
а вместо них прямо в землю сверху
втыкается лес,
острый, сосновый.
Давно он в таком не был…
Сейчас бы туда,
под сосну,
в холод.
Скорей, пока не исчез!
Скорей, дайте двухверстку!
Я нанесу — тут лес и река,
тут лес и река,
а топографы и забыли!
— Что, товарищ майор?
— Нет, ничего. —
Опять одни облака
желтой, как шар, туго скатанной пыли.
И еще молоко солончаковых озер,
соль,
соль,
соль,
остальное — мираж,
ничего нету.
Он, как все, сначала не верил в эти
цепи тающих гор,
в этот пар над мнимой водой,
в эти речные расцветы.
Но все, чего не хватало в этой пустыне,
сводя нас с ума,
катилось перед глазами:
вода
и деревья,
деревья,
деревья
с густыми,
с очень густыми,
с такими густыми, как хочется,
ветвями,
ветвями,
ветвями.
— Денисов, на башню!
— Да, товарищ майор.
— Смотри!
Видишь реку?
— Нет, не вижу. —
И правда — пропала, одна просинь.
До Баин-Цагана осталось семьдесят три,
семьдесят два,
семьдесят,
шестьдесят восемь.
Кого-то хватил удар.
За бугром, в стороне
экипаж ему наспех роет могилу.
Земля пересохла,
она не желает,
по ней, как по броне,
с лязгом скользят лопаты.
Она мертвых берет через силу.
А живым —
им некогда,
им надо в танк сесть,
молча сдернуть шлемы
и ехать.
Им нет времени на слова.
До Баин-Цагана осталось шестьдесят
шесть,
шестьдесят пять,
шестьдесят три,
шестьдесят два.
Об утре перед боем
Новобранца приводят в роту отец и мать.
Они благовоспитанно улыбаются,
старые, грустные люди.
Не улыбнуться — невежливо,
даже если заранее знать,
что он завтра будет зарыт в песок
с простреленной грудью.
Их сын,
матрос с краболова,
большой, молчаливый,
смотрит в лицо отцу
и не верит
его улыбающимся губам.
— Господин поручик,
мы благословляем этот счастливый
день,
когда он переходит
от нас
к вам.
Поручик завтра рядом с их сыном,
не сгибаясь,
пойдет через море огня.
Он не будет беречь
ни себя,
ни его.
Но сейчас, по обычаю,
он говорит:
— Отныне я ему мать и отец.
Отныне он у меня
самый нежно хранимый сын в моей роте. —
И тоже улыбается из приличия.
Все четверо улыбаются…
Где же эта улыбка?
Песок.
Новобранец, зарывшись, лежит в цепи.
Еще бы воды глоток.
Еще бы неба кусок.
Еще бы минуту не слышать, как танки
ползут по степи.
Он держит в руке шест с привязанной
миной.
Легкий и крепкий шест из бамбука.
Бамбуковый шест
в двадцать локтей —
он ведь все-таки очень длинный,
не правда ли — двадцать локтей
и еще длинней
на целую руку.
Двадцать локтей и еще рука,
когда мина взорвется — это все-таки
очень много.
Он храбр,
но все-таки исподтишка
он же может мечтать,
чтобы ранило только
в руку
или в ногу.
Фляга стоит рядом с ним на песке,
но он не пьет.
Галеты лежат в заплечном мешке,
но он не ест.
В заранее вытянутой
как можно дальше,
как можно дальше руке,
окаменев от ужаса,
он держит бамбуковый шест.
Генерал, получивший поручика на
русско-японской войне,
ровно в час прибудет со штабом
к вершине горы,
ему разбивают палатку на теневой
стороне,
из двойного белого шелка,
непроницаемого для жары.
Господин поручик, тот самый, который
отныне
новобранцу заменяет мать и отца,
опершись на меч,
стоит у палатки,
смотрит вдаль на пустыню
и отстраняет солнце веером от лица.
На белом рисовом веере
нарисован багровый круг,
написаны тушью солдатские изречения.
Когда ротный флажок падает из
ослабевших рук,
веер
приобретает особенное значение.
В журнале, который читает поручик,
нарисован храбрый отряд:
солдаты идут в атаку,
обгоняя друг друга,
поручик с рукой на перевязи
бежит впереди солдат,
как флаг,
поднимая веер,
белый,
с багровым кругом.
Это было под Порт-Артуром, еще на
прошлой войне,
отец господина поручика
получил за подвиг награду.
И поручик мечтает,
как сам он
в красном, закатном огне
пойдет в атаку
с веером
впереди отряда.
Но новобранец, который лежит в цепи,
у него нет сорока поколений предков
с гербом
и двумя мечами…
Он не учился в кадетской школе,
ни в книгах,
ни здесь, в степи,
слава военной истории
не касалась его лучами.
Он слышит,
всем телом своим припав к земле,
как они идут!
Он слышит
всем страхом своим,
что они близко,
что они тут!
А там,
сзади,
еще не верят.
Там знают старый устав:
танки идут с пехотой, а у русских нет
пехоты,
она еле бредет, устав,
она еще в ста верстах,
она еще в ста верстах,
ей еще два перехода.
О том, как танки идут в атаку
А пехоты и правда не было.
Она утопала в песках,
шла, захлебываясь пылью,
едва дыша.
Летчик, посланный на разведку,
впереди нее
в облаках
летел как оторванная от тела душа.
Он знал:
за десять минут отсюда уже начинался
бой.
Проклятье!
Он мог
эти сутки для них
сделать за десять минут.
Если б можно
их всех
на канатах
потянуть вверх, за собой,
поднять,
перенести
и поставить
за сто верст,
там, где их ждут.
Он делал над их головами смертельные
номера:
двойной разворот,
штопор,
двойной разворот.
И смертельно усталые люди снизу хрипло
кричали «ура».
Они понимали, что он им хочет помочь
скоротать переход.
— Что ж, придется одним. —
Майор потушил папиросу о клепку брони.
Комиссар дострочил на планшете
последнюю строчку жене.
Начальник штаба молча кивнул:
— Что ж, одни так одни, —
и посмотрел на багровое солнце, плывшее
в стороне.
Все посмотрели на солнце.
Открыв верхние люки
на всех,
сколько было,
танках,
сдвинув на лоб очки,
положив на поручни башен черные кожаные
руки,
танкисты смотрели на солнце,
катившееся через пески.
Не всем им завтра встретить восход под
этими облаками.
Майор поднялся на башню:
— За Родину!
— В бой!
Сигналист крест-накрест взмахнул
флажками,
и стальные люки с грохотом захлопнулись
над головой.
В броневом стекле вниз и вверх метались
холмы.
Не было больше ни неба,
ни солнца,
только узкий кусок
земли, в которую надо стрелять,
только они
и мы.
Только мы
и они,
которых надо вдавить в этот песок.
— За Родину —
значит за наше право
раз и навсегда
быть равными перед жизнью и смертью,
если нужно — в этих песках.
За мою мать,
которая никогда
не будет плакать, прося за сына,
у чужеземца в ногах.
— За Родину —
значит за наши русские в липах и
тополях города,
где ты бегал мальчишкой,
где, если ты стоишь того,
будет памятник твой.
За любимую женщину,
которая так горда,
что плюнет в лицо тебе, если ты трусом
вернешься домой.
Облитая бензином, кругом горела трава,
майор, задыхаясь от дыма, вытер глаза
черным платком,
крикнул:
— Вперед, за Родину!
Стрелок не расслышал слова,
но по губам угадал
и, стреляя,
повторил их беззвучным ртом.
Снаряд ворвался в самую башню.
На мгновение глухота,
как будто страшно ударили в ухо
Стараясь содрать тишину,
майор провел по лицу ладонью.
Ладонь была залита,
стрелок привалился к его плечу,
как будто клонило ко сну.
Майор рванул рукоять.
Пулемет замолк.
Замок
у орудья разодран в куски.
Но танк еще шел!
Танк еще шел!
Танк еще мог…
Еще сквозь пробоину плыло небо
и летели пески.
И вдруг застрял
и опять рванулся страшным рывком.
— Денисов! —
Водитель молчал.
— Денисов! —
Молчал.
— Денис… —
Майор качнулся вправо и влево в обнимку
с мертвым стрелком
и, оторвав ослепшие пальцы,
пролез вниз.
Водитель
сидел, как всегда, — руки на рычагах.
Посмертным усильем воли он выжал
передний ход,
Исполняя
его последнее
желанье,
в мертвых зрачках
земля, как при жизни, еще летела
вперед.
Похоронный марш,
слава,
вечная память —
это все потом.
А пока на мокром от крови кресле тесно
сидеть вдвоем.
Майор отодвинул мертвого,
повернул лицом к броне
и, дотянувшись до рычагов,
прижался к его спине…
Семь танков уже горело.
Справа,
слева
и сзади
были воткнуты в небо столбы дыма.
Но согласно приказу
оставшиеся в живых
шли, не глядя,
шли мимо,
мимо праха товарищей,
мимо горящих могил,
недописанных писем,
недожитых жизней.
Перед смертью каждый из них попросил
только горсть воды себе
и победы в бою отчизне.
Есть у танкистов команда:
«Делай, как я!»
Смерть не может прервать ее исполненья.
Заместитель умершего
повторяет:
— Делай, как я! —
Умирает,
и его заместитель
ведет батальон в наступление.
Экипаж твой убит.
Но еще далеко до отбоя,
и соседи не знают, что мертвым не
прикажешь стрелять.
Если ты повернешь,
вдруг они повернут за тобою,
вечность,
тридцать секунд
потеряв, чтоб понять.
Да!
Но ты еще жив.
И разодранный,
страшный,
молчащий,
танк майора прорвался к реке.
Да, пускай не стрелять,
только б в землю их вмять,
только б чаще
догонять их машины,
оставляя
за собой
скорлупу на песке.
Майор срывает флягу с ремня.
Воды больше нет.
Ну и черт с ней!
Он сжимает сожженный рот.
В эту минуту победы
больше нет
ни тебя,
ни меня,
ни жажды,
ни смерти,
ничего,
кроме — вперед!
О вечере после боя
Вечер.
Как далеко позади
это поле сраженья,
и слезы
упоенья победой,
и последнего залпа дымок,
перевернутых пушек колеса,
бегство
тех, кто успел,
и могилы
тех, кто не смог.
Обломок ротной трубы, не успевшей
подать сигнал,
бутылки из-под сакэ,
солдатские ложки,
рядом с телом хозяина вдавленный в
землю журнал,
где на залитой кровью обложке,
как ни странно,
по-прежнему
нарисован храбрый отряд:
солдаты идут в атаку,
обгоняя друг друга,
поручик с рукой на перевязи
бежит впереди солдат,
как флаг, поднимая веер,
белый,
с багровым кругом.
После боя курили, сняв шлемы.
Под головой
был монгольский,
зеленый
с красным
и черным
закат.
Был короткий отдых.
И завтра опять бой,
как вчера,
и позавчера,
и месяц назад.
Но они говорили совсем не об этом.
Чего ради
повторять
то, что известно,
то, что опять начнется завтра с утра.
Они говорили о доме,
о маме,
о какой-то Наде,
говорили так, как будто они оттуда
только вчера.
Нет, неправда,
к смерти привыкнуть нельзя.
Но это еще не значит
видеть ее во сне по ночам,
думать о ней, открывая утром глаза,
говорить о ней, поднося котелок к
губам.
И когда солдаты,
которым завтра в бой,
говорят не о торжестве идей,
а, грустя, вспоминают о доме,
о матери,
о родных,
то это тревожит только маленьких
чернильных людей,
верящих громким словам,
но не верящих сердцу,
которого
нет у них самих.
Но командир роты,
который был с нами вчера в бою
и пойдет с нами завтра,
садится рядом,
и, греясь одним огнем,
слушает нашу жизнь,
и рассказывает свою,
и не боится вспомнить
милую женщину и опустевший дом.
Его не тревожит наша память о доме,
о любви,
об уюте комнат.
Если б не было этого,
где ж тогда наши сердца?
Из того,
кто ничего не любит
и ничего не помнит,
можно сделать самоубийцу,
но нельзя сделать бойца.
Я люблю землю в холодных рассветах,
в ночных огнях,
все места, в которых я еще никогда не
жил.
Если б мне оторвало ноги,
я бы на костылях,
все равно,
обошел бы все, что решил.
Я люблю славу,
которая по праву приходит к нам.
С ночами без сна,
с усталостью до глухоты.
Равнодушную к именам,
жестокую по временам,
но приходящую неизменно,
если сам не изменишь ты.
Я люблю женщину,
которая стоит того,
чтоб задыхаться от счастья,
когда она со мной,
чтоб задыхаться от горя,
когда она оставляет меня одного,
чтоб не знать
ни позже
ни раньше
никого, кроме нее одной.
Но в минуту, когда
между жизнью для них
и смертью за них
выбирать
приходится только нам самим,
то, как ни бывает жаль умирать,
мы не уступаем этого права другим.
Если ты здоров и силен
и ты уступил это право,
ты не сможешь ходить по земле,
которую защищал другой;
слава,
трясясь над которой ты струсил, —
уже не слава;
женщину,
за которую ты не дрался,
ты не смеешь называть дорогой.
Мы всосали эту жестокую правду с
молоком матерей.
Мы все такие,
и этого у нас не отнять.
Мы умеем жертвовать жизнью
только одной
своей.
Но зато эту одну трудно у нас отобрать.
Мы не вспоминаем в эту минуту всех
книг, которые мы прочли,
всех истин, которые нам сказали,
мы вспоминаем не всю землю,
а только клочок земли,
не всех людей,
а женщину на вокзале.
Но за этим,
ширясь,
не зная преград,
встает Родина,
сложенная из этих клочков земли,
встает народ,
составленный
из друзей, которые провожали нас,
солдат,
плывут облака, под которыми мы росли.
А в бою есть только танки, идущие
напролом.
Есть только красный флаг над желтым
песком.
Что они не сметут,
то он подожжет.
Они дойдут до реки
и пройдут эту реку вброд,
и пески за рекой,
и горы, которые за песками,
и еще пески,
и еще горы,
и море, которое за горами,
они обогнут всю землю железной дугой,
они обойдут все страны
одну
за другой,
они обойдут их все,
ломая
жалкую бестолочь пограничных столбов,
и, почернев в походах,
они выйдут в другое столетье
на площади
неизвестных нам городов,
только там наконец они встанут на
отдых.
Будет солнечный день.
Незнакомый нам завтрашний век.
Монументом из бронзы
на площадях
они встанут рядами.
Верхний люк
приподнимет бронзовый человек,
сигналист просигналит бронзовыми
флажками,
и на всех,
сколько будет их,
танках,
открыв верхние люки,
подчиняясь приказу бронзового флажка,
положив на поручни башен бронзовые
руки,
они будут смотреть на солнце,
катящееся через века.
Революция!
Наши дела озарены твоим светом,
мы готовы пожертвовать для тебя
жизнью,
домом,
теплом.
Встать!
когда говорят об этом,
ради чего мы живем
и, если надо,
умрем!